Опрос газеты «Вестник»: чем запомнились студенческие годы? — Сетевое издание Вестник
25 января – День российского студенчества. День российского студенчества отмечается 25 января, когда православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. Именно 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года Императрица Елизавета подписала Указ об основании Московского университета. На государственном уровне День российского студенчества отмечается в соответствие с Указом Президента России от 25 января 2005 года.
Александр Ильиных, директор Детской школы искусств № 1, г. Лянтор:
– Прежде всего, дружбой с людьми, с которыми общаемся до сих пор. Мне всегда везло с учителями, в колледже культуры особенно. Многие из них ещё преподают. Каждый год, выезжая в Челябинск, стараемся заглянуть к себе в колледж «на огонёк».
Был у нас интересный ритуал. Наше общежитие находилось рядом с общежитием другого колледжа. Во время сессии в полночь то из одного, то из другого общежития кричали: «Халява, приди!».Так хотелось хорошо сдать экзамены… Это было смешно.
Елена Кузнецова, заместитель главы сельского поселения Русскинская:
– Училась я на педагога-психолога. Студенческие годы – это сложные экзамены, строгие преподаватели, непонятные курсовые и непреодолимые зачёты, в то же время – веселье, курьёзные ситуации, которые по жизни вспоминаются с юмором и искренними слезами на глазах – от смеха. Это особый период в жизни каждого, и он запоминается навсегда.
Как-то мы готовились к очередному экзамену по истории, и, естественно, считали часы до злополучного дня. Экзамен был назначен на 8:00 в понедельник. За день до этого, в воскресенье, мы с однокурсницей, не поднимая головы, зубрили материал, не обращая внимания на житейские проблемы. Только вечером, в перерыве, вспомнили, что в этот день переводят часы.
В суете и суматохе вместо того чтобы перевести часы обратно на час, мы перевели на час вперёд. И вот идём мы утром следующего дня, довольные и счастливые, а добравшись до института, упираемся в закрытую дверь.Мы думали, что идём к семи часам, а оказалось, что пришли в пять утра. Самое смешное, так это то, что неправильно перевела часы половина нашей группы.
Вадим Казиев, учитель физкультуры и ОБЖ Фёдоровской школы №1:
– Учился я в СурГПУ, по специальности «Безопасность жизнедеятельности». Я, будучи студентом, не только учился, но и успевал работать на станции техобслуживания автомобилей. Умудрялся ещё уделять время спорту. Защищал честь университета в соревнованиях по волейболу и баскетболу.
Моя студенческая жизнь была насыщенной. Активно участвовал в общественной жизни университета. Конечно, всё это не могло не сказаться на учёбе. На пятом курсе пришлось от всего отказаться и основательно готовиться к госэкзаменам и защите диплома. Постарался настолько, что экзаменаторы на защите сказали: «Это не просто пять, а пять с плюсом».
Гульнара Шамсутдинова, учитель математики Фёдоровской школы № 2:
– Училась я на педагога, в городе Бирске, что в Башкортостане. Была такая традиция, не знаю, может быть, не только у нас. Город небольшой, в нём всего один институт. Само собой, студенты всех курсов знали друг друга в лицо.
Была такая традиция, не знаю, может быть, не только у нас. Город небольшой, в нём всего один институт. Само собой, студенты всех курсов знали друг друга в лицо.
После сдачи государственных экзаменов (а то, что это ГОСы, непременно знали все) на улице при встрече «пятака» или группы «пятаков» выкрикивали: «Поздравляем!», на что неизменно надо было тоже выкрикнуть: «Спасибо!». Затем в ответ следовало: «Молодцы!», а со стороны «пятаков» троекратное: «Ура!». Было очень забавно.
Евгений Бахарев, фотограф, г. Лянтор:
– Студенческие годы запомнились, в первую очередь, ежедневной разнообразной кипучей деятельностью по воплощению самых разных, зачастую невероятных идей и планов, а также огромным количеством живых контактов и коммуникаций.
Учился на физмате. Мне кажется, любой экзамен был наполнен разноплановой эмоциональной составляющей и был… неповторим. Как-то во время экзаменов у нас произошёл забавный случай, прямо как у Гайдая в «Приключениях Шурика».
Один мой знакомый создал коротковолновый передатчик с ограниченным расстоянием действия (в пределах нескольких аудиторий). Располагался его динамик в рукаве пиджака, а звук передавался по тонкой трубочке к ремешку крепления часов. С его помощью экзамен был сдан половиной участников проекта, а сам создатель был запеленгован бдительным КГБ и задержан прямо в стенах института. Правда, всего на несколько часов.
что это было? – Новости – Факультет гуманитарных наук – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
В сентябре 2015 года в Вышке заработал проект университетского масштаба: студенческие экскурсии по Москве. Сейчас проект, который удалось реализовать при активном участии факультета гуманитарных наук, подводит итоги прошедшего сезона и готовит новый.
Идея адаптационных экскурсий, предложенная директором по работе со студентами и выпускниками Татьяной Дубовой, давно уже обсуждалась в Центре поддержки студенческих инициатив. Ясно, что первокурсники из других городов и даже стран нередко сталкиваются в Москве с различными трудностями. Где позаниматься в спокойной обстановке? В какой библиотеке отыскать нужную книгу? В какой театр или галерею сходить на выходных и при этом не разориться? А где стоит погулять, если не вокруг Кремля? Ясно, что лучше всего на эти вопросы могут ответить старшекурсники. Организаторы проекта приглашали поучаствовать опытных студентов со всех факультетов, но главная надежда была, конечно, на гуманитариев. Кто как не молодые культурологи, историки и искусствоведы могут лучше помочь младшим коллегам разобраться в городской среде? И эта надежда оправдалась!
Ясно, что первокурсники из других городов и даже стран нередко сталкиваются в Москве с различными трудностями. Где позаниматься в спокойной обстановке? В какой библиотеке отыскать нужную книгу? В какой театр или галерею сходить на выходных и при этом не разориться? А где стоит погулять, если не вокруг Кремля? Ясно, что лучше всего на эти вопросы могут ответить старшекурсники. Организаторы проекта приглашали поучаствовать опытных студентов со всех факультетов, но главная надежда была, конечно, на гуманитариев. Кто как не молодые культурологи, историки и искусствоведы могут лучше помочь младшим коллегам разобраться в городской среде? И эта надежда оправдалась!
«Конкурс предполагал тщательный отбор и проходил в три этапа, — говорит Владимир Бродский, менеджер ФГН по работе со студентами и выпускниками, который курировал организацию проекта на факультете, — В июне состоялся мастер-класс для потенциальных участников, затем жюри оценивало письменные заявки, и, наконец, в начале сентября на очной встрече будущие экскурсоводы выступали с презентациями. В жюри вошли представители всех гуманитарных направлений, которые так или иначе связаны с городской средой. Можно назвать, например, Бориса Степанова, соавтора книги о парке Царицыно, или Оксану Запорожец, автора статей о метро и стене Цоя».
В жюри вошли представители всех гуманитарных направлений, которые так или иначе связаны с городской средой. Можно назвать, например, Бориса Степанова, соавтора книги о парке Царицыно, или Оксану Запорожец, автора статей о метро и стене Цоя».
По итогам конкурса было одобрено 11 экскурсий, авторами большинства которых были студенты факультета гуманитарных наук. Также в лице членов жюри студенты обрели кураторов, вместе с которыми они впоследствии дорабатывали свои проекты. Об отборе и доработке экскурсий рассказывает член жюри Ольга Рогинская:
«Мы руководствовались двумя принципиальными установками. Во-первых, важно было учитывать, что адресаты этого проекта – первокурсники,активные, увлеченные, любопытные, но одновременно немного осторожные и растерянные перед открывшимися возможностями и соблазнами самостоятельной студенческой жизни. Мы советовали старшекурсникам вспомнить себя на первом курсе и посмотреть на «себя-прошлого» уже с высоты нынешнего опыта. Именно с учетом этого и предлагалось придумать экскурсии и прогулки.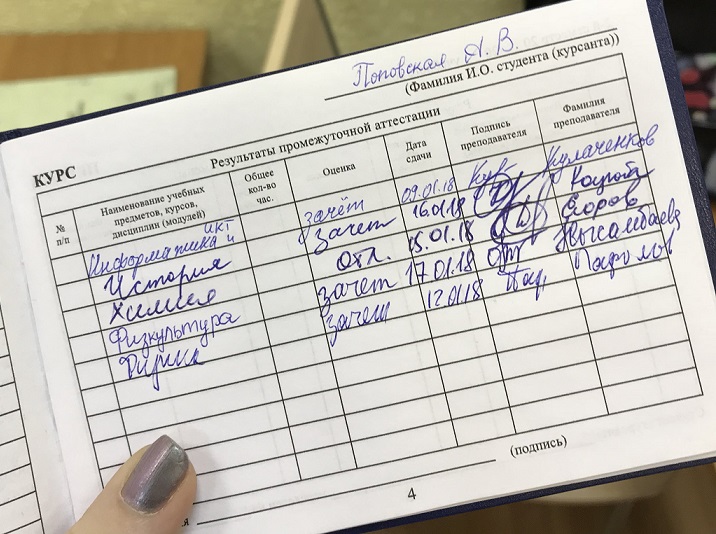 Как не потеряться в большом городе, в том огромном количестве культурных предложений, которые он предлагает? Как лучше организовать свою студенческую жизнь, чтобы это было удобно,эффективно и современно? С этим была связана и вторая установка – акцент на эксклюзивности предлагаемых маршрутов и содержания экскурсийкак следствии собственного опыта и рефлексии (часто исследовательской) старшекурсников, направленной на фиксирование и описание как распространенных культурных практик, так и различных инноваций в сфере туризма и жизни больших городов. Так что самаличность экскурсовода– с обращением к собственному опыту незнания и неудачного выбора, воспоминаниям о недалеком прошлом и расположенностью к общению с новичками — оказалась не менее значимой, чем собственно материал экскурсий».
Как не потеряться в большом городе, в том огромном количестве культурных предложений, которые он предлагает? Как лучше организовать свою студенческую жизнь, чтобы это было удобно,эффективно и современно? С этим была связана и вторая установка – акцент на эксклюзивности предлагаемых маршрутов и содержания экскурсийкак следствии собственного опыта и рефлексии (часто исследовательской) старшекурсников, направленной на фиксирование и описание как распространенных культурных практик, так и различных инноваций в сфере туризма и жизни больших городов. Так что самаличность экскурсовода– с обращением к собственному опыту незнания и неудачного выбора, воспоминаниям о недалеком прошлом и расположенностью к общению с новичками — оказалась не менее значимой, чем собственно материал экскурсий».
Еще до того, как экскурсионные группы вышли на улицы города, стало ясно, что этот проект — не простой адаптационный курс. Студенты предлагали невероятно содержательные и концептуальные проекты, связанные с их научными интересами. Для них проведение экскурсий стало возможностью в интерактивной и творческой форме поделиться результатами своих исследований. Экскурсии показывали разные стороны Москвы, ее историю и культуру во всем многообразии. Можно было выбрать прогулку по дворцово-парковым пространствам, обзор театров и музеев столицы, квест по району Патриарших прудов или даже путешествие по Москве эпохи «лихих 90-х». Потенциальная аудитория уже не ограничивалась первокурсниками из других городов: некоторые из тем привлекли и коренных москвичей. Неудивительно, что попасть на экскурсию смогли не все желающие: размер группы не превышал 20 человек, и чаще всего свободных мест не оставалось в первый же день регистрации.
Для них проведение экскурсий стало возможностью в интерактивной и творческой форме поделиться результатами своих исследований. Экскурсии показывали разные стороны Москвы, ее историю и культуру во всем многообразии. Можно было выбрать прогулку по дворцово-парковым пространствам, обзор театров и музеев столицы, квест по району Патриарших прудов или даже путешествие по Москве эпохи «лихих 90-х». Потенциальная аудитория уже не ограничивалась первокурсниками из других городов: некоторые из тем привлекли и коренных москвичей. Неудивительно, что попасть на экскурсию смогли не все желающие: размер группы не превышал 20 человек, и чаще всего свободных мест не оставалось в первый же день регистрации.
Мы беседуем с авторами одной из интереснейших экскурсий, заслуживших высокие оценки членов экспертной комиссии и максимально положительные отзывы участников – Екатериной Фроловой и Анастасией Бурзак (квест).
— Почему вы решили поучаствовать в проекте?
Анастасия: Я представила, как бы я сама чувствовала себя в незнакомом городе. Наверняка мне бы хотелось, чтобы кто-то взял за руку и провёл по стоящим местам: не тем, которые указаны в путеводителе, и у которых толпятся туристы, а местам с душой, куда хотелось бы не раз вернуться. Я очень рада, что тематика экскурсий оказалось такой разнообразной. Думаю, нам удалось показать участникам экскурсий множество граней столицы.
Наверняка мне бы хотелось, чтобы кто-то взял за руку и провёл по стоящим местам: не тем, которые указаны в путеводителе, и у которых толпятся туристы, а местам с душой, куда хотелось бы не раз вернуться. Я очень рада, что тематика экскурсий оказалось такой разнообразной. Думаю, нам удалось показать участникам экскурсий множество граней столицы.
— Как к вам пришла идея предложенной экскурсии?
Екатерина: Для экскурсии мы выбрали формат квеста, поскольку хотели сделать нашу прогулку не только познавательной, но и занимательной. Кроме того, всем известно, что гораздо лучше запоминается не та информация, которую в готовом виде принесли на блюдечке, а та, для нахождения которой были потрачены усилия. Вот мы и предложили участником напрячь извилины и одновременно с этим повеселиться.
— Какие знания и навыки, полученные в ходе обучения на ФГН, вы смогли реализовать в роли экскурсовода?
Екатерина: В нашей экскурсии мы не только углубляемся в историю района, но также много рассказываем про его архитектурные особенности. Тот, кто проучился год на факультете истории искусств, уже не может пройти мимо интересного здания и не прокомментировать его. Раньше, смотря на объект искусства, я использовала слова «красиво» или «нравится», теперь же мой глаз уже заточен на академический анализ. Оказалось, что видеть гораздо интереснее, чем смотреть.
Тот, кто проучился год на факультете истории искусств, уже не может пройти мимо интересного здания и не прокомментировать его. Раньше, смотря на объект искусства, я использовала слова «красиво» или «нравится», теперь же мой глаз уже заточен на академический анализ. Оказалось, что видеть гораздо интереснее, чем смотреть.
— Оправдали ли экскурсии ваши ожидания?
Анастасия: Я так волновалась, что была готова даже к тому, что нас закидают помидорами. Но отдача от участников оказалось колоссальной! Услышать столько благодарственных слов было поистине бесценно.
— Не хотите ли теперь выбрать для себя профессию экскурсовода?
Екатерина: Экскурсии могут стать неплохой подработкой, но я не стала бы связывать всю свою профессиональную деятельность только с ними. Хотя на данном этапе я с большим энтузиазмом берусь водить экскурсии. Например, скоро я ещё раз опробую себя в роли экскурсовода на выставке, посвященной муми-троллям, которая откроется в Государственной галерее на Солянке в конце декабря.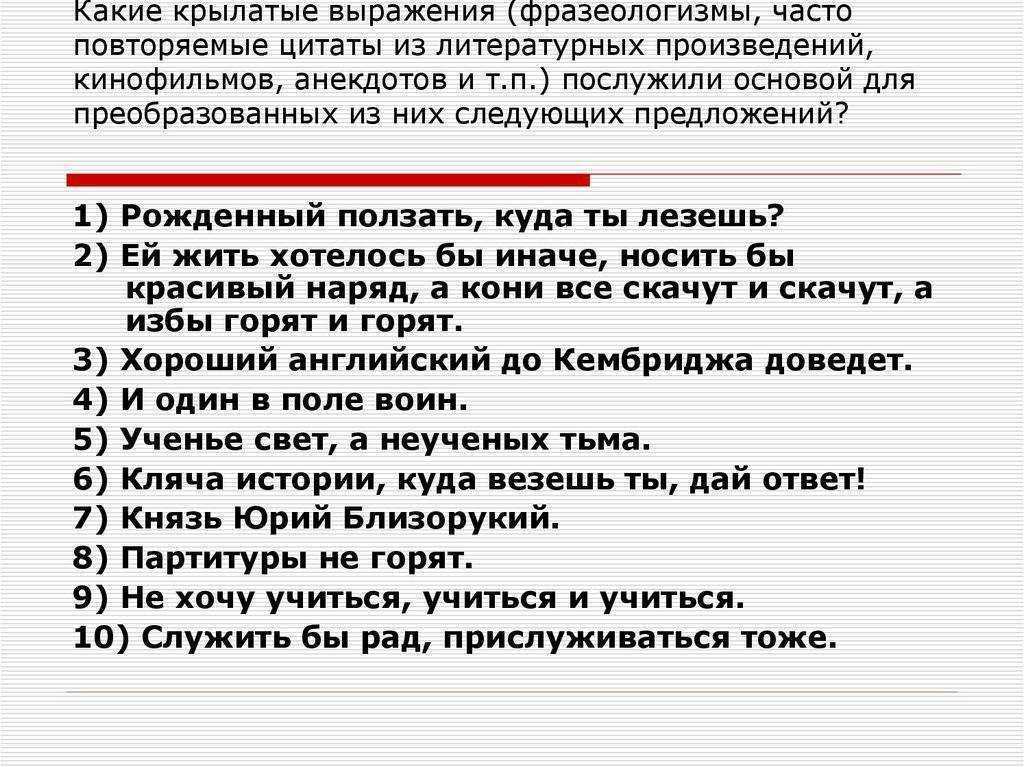
— Будете ли участвовать во «втором сезоне» проекта?
С огромным удовольствием! Приятно, что проект продолжает развиваться.
Особенно приятно, что квестом остались довольны не только авторы экскурсии, но и ее посетители. Нам удалось пообщаться с Софией Стручковой, студенткой второго курса образовательной программы «Менеджмент»:
— София, почему Вы выбрали именно экскурсию-квест?
Экскурсия-квест интересна для меня прежде всего своим форматом. Человек не просто воспринимает информацию, но и сам участвует в процессе: думает, ищет, наблюдает, взаимодействует с остальными слушателями. Так гораздо лучше запоминается то, что говорят, потому что квест позволяет пропустить все через себя.
— Оправдались ли Ваши ожидания?
Мои ожидания были даже превзойдены, потому что маршрут был действительно тщательно продуман. Было интересно узнать Москву с другой стороны, походить в тех местах, где уже был много раз, но не замечал чего-то.
— А что запомнилось больше всего?
Печенька OREO, которую организаторы оставили нам вместе с подсказкой! А также то, что во время экскурсии к нам подходили прохожие, которые заинтересовались и решили послушать.
— Посетите ли Вы студенческие экскурсии в следующем году? Порекомендуете ли своим друзьям?
Если будет время, то обязательно схожу, особенно если снова будет предложен формат квеста. Захвачу и других любителей квестов!
Успехи и энтузиазм ребят говорят в пользу того, что студенческие экскурсии станут еще одной традицией «Высшей школы экономики». Более того, есть надежда, что проект может распространиться на учеников Лицея НИУ ВШЭ и других потенциальных абитуриентов нашего университета.
Персонажи из бандитской Москвы 90-х годов, возможно, назвали бы экскурсию «телегой». А телегу, согласно пословице, нужно готовить зимой. Публикуя отчет об осеннем проекте на исходе февраля, мы призываем студентов и преподавателей Факультета гуманитарных наук уже сейчас подумать об участии в следующем сезоне экскурсионного проекта.
Что помнят студенты?
В конце каждого семестра, когда я читаю последние работы и выставляю итоговые оценки, я задаюсь вопросом: сколько из этого будут помнить студенты через год или через неделю? Они должны что-то помнить. В типичном семестре мы проводим около 40 часов вместе. Что-то должно прилипнуть. Но что это? Материал из курса? Навыки, которыми они овладели? В тот раз, когда у ребенка в заднем ряду рухнула парта прямо перед контрольной?
В типичном семестре мы проводим около 40 часов вместе. Что-то должно прилипнуть. Но что это? Материал из курса? Навыки, которыми они овладели? В тот раз, когда у ребенка в заднем ряду рухнула парта прямо перед контрольной?
Год назад решил попробовать выяснить. В каждый выпускной экзамен, который я сдавал за последние три семестра, я включал следующий вопрос, который оценивался в один дополнительный балл: «Что из курса вам запомнилось больше всего? Объясните, почему».
Я получил в общей сложности 359 ответов по девяти курсам, которые я преподавал, курсам, которые включали в себя все материалы Western Civ. от европейской истории до Обзора истории США, американской революции и эпохи Джексона. В то время как некоторые результаты были предсказуемы, другие оказались неожиданными, поучительными и, в конечном счете, обнадеживающими.
Учащиеся чаще всего называли что-то визуальное наиболее запоминающимся. 29% ссылались на конкретное видео или изображение. Еще 8% упомянули материал, который мы освещали только или в основном через документальный фильм. Таким образом, для более чем трети учащихся занятие будет ассоциироваться с образом.
Таким образом, для более чем трети учащихся занятие будет ассоциироваться с образом.
Я ожидал, что видео и картинки станут популярными, и я часто использую их в своем обучении. Я показывал документальные фильмы, такие как Последняя битва 300 о спартанцах; Эндрю Джексон: Добро, зло и президентство ; и Жена нацистского офицера , о молодой еврейке, пережившей Холокост очень нетрадиционным способом. Я также показывал отрывки из телешоу и фильмов, начиная с Johnny Tremain и HBO John Adams до Безумцы и Гладиатор , чтобы узнать, как запомнилось прошлое.
Однако я беспокоился о том, что курсы превратятся в просто образовательно-развлекательные, с визуальными элементами, которые развлекают аудиторию студентов, но при этом дают мало интеллектуального содержания. Результаты моего опроса подтверждают, что развлечения во многом объясняют популярность видео и изображений, которые я показывал. В то же время чтение между строк ответов моих студентов говорит о том, что они тоже узнали что-то важное.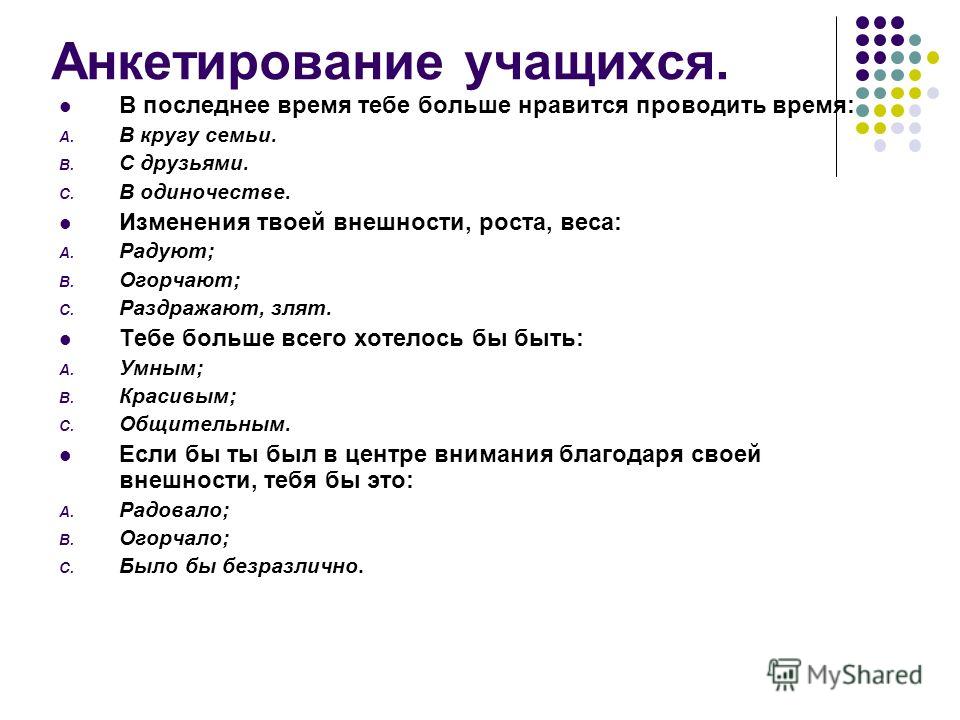 Многие представители Western Civ. студенты, которые процитировали Последняя битва 300 были поражены тем, насколько разными были ценности Спартанцев. Особый интерес вызывал жестокий режим тренировок спартанских мальчиков, по которому их забирали из семей в семилетнем возрасте. Один студент написал: «Я не мог представить, чтобы мой сын ушел, не зная, выживет ли он вообще после обучения [не говоря уже о том, чтобы] стать солдатом».
Многие представители Western Civ. студенты, которые процитировали Последняя битва 300 были поражены тем, насколько разными были ценности Спартанцев. Особый интерес вызывал жестокий режим тренировок спартанских мальчиков, по которому их забирали из семей в семилетнем возрасте. Один студент написал: «Я не мог представить, чтобы мой сын ушел, не зная, выживет ли он вообще после обучения [не говоря уже о том, чтобы] стать солдатом».
Спартанки не хотели бы сочувствия. В конце концов, именно спартанские матери говорили своим сыновьям: «Вернись со своим щитом или на нем». Несколько студентов отметили удивительную стойкость этих женщин. Один студент вспомнил «спартанских людей, особенно женщин, и то, как они обращались со своими сыновьями и каким был бы самый счастливый момент для них, когда их сыновья шли в бой». Спартанские матери не были похожи на мам сегодняшних студентов. Отвозя своих детей в колледж, никто не кричит «Возвращайся со своим дипломом или на нем» из семейного микроавтобуса. Это основная точка истории, что прошлое — это чужая страна. Студенты получили это сообщение из документального фильма. Для исследовательского класса, полного студентов, которые на самом деле не хотят проходить курс, им важно понять это.
Это основная точка истории, что прошлое — это чужая страна. Студенты получили это сообщение из документального фильма. Для исследовательского класса, полного студентов, которые на самом деле не хотят проходить курс, им важно понять это.
Удивительно много учеников не выбрали что-то визуальное. Некоторые студенты даже говорили, что книга — это книга! — вот что они запомнили больше всего. Двадцать три студента, как старшеклассников, так и опрошенных, назвали книгу наиболее запоминающейся. Семь студентов из моего класса «Европа 20-го века» назвали книгу Кристофера Браунинга « Обычные люди » о группе призывников немецкой полиции, которые помогли совершить Холокост, как самую запоминающуюся часть курса. Обычные мужчины 9«0012» — необыкновенная книга, пугающая, сложная и захватывающая. Отрадно, что студенты откликнулись на него.
Что касается тем, ответы были разными. В Западной Цивилизации. спартанцы были чемпионами, за ними шли гладиаторы и рыцари. Интересно, что религия также была популярна: 19 студентов выбрали религиозную тему (один даже назвал зороастризм). В Европе 20-го века Вторая мировая война и Холокост были самыми популярными ответами, и это правильно. На моих уроках истории в США Эндрю Джексон был победителем. В частности, студенты были поражены его личностью. «Парень был сумасшедшим, но все равно руководил нашей страной. Не знаю, как он это сделал, но так получилось», — гласил типичный ответ. Я полагаю, что буду известен как парень, который рассказывал дикие истории о Джексоне.
В Европе 20-го века Вторая мировая война и Холокост были самыми популярными ответами, и это правильно. На моих уроках истории в США Эндрю Джексон был победителем. В частности, студенты были поражены его личностью. «Парень был сумасшедшим, но все равно руководил нашей страной. Не знаю, как он это сделал, но так получилось», — гласил типичный ответ. Я полагаю, что буду известен как парень, который рассказывал дикие истории о Джексоне.
В то же время удовлетворительное количество студентов упомянули опыт рабов и то, как рабство изменилось с течением времени, как то, что они запомнили лучше всего. Это была основная тема курса, ей было посвящено несколько занятий. Может быть, только может быть, некоторые студенты сохранят разницу между обществом рабов и обществом рабов.
Около 17 процентов студентов назвали мой стиль преподавания, атмосферу в классе или какое-то другое занятие, не связанное с лекциями, как то, что они запомнили лучше всего. Похоже, лично я им понравился, что всегда приятно слышать.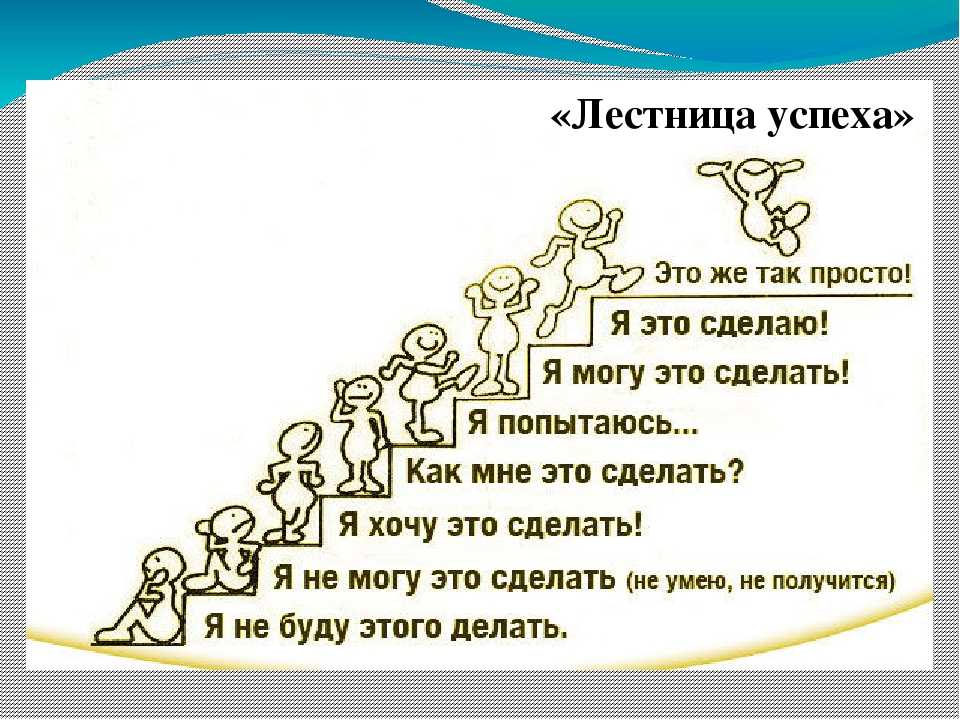 Им нравились обсуждения и дебаты, которые у нас были в классе. Когда я был помощником в Буффало, штат Нью-Йорк, два класса отправились на экскурсию: один в местный форт времен войны между французами и индейцами, а другой в художественный музей на территории кампуса на выставку, посвященную Подземной железной дороге. Студенты оценили практический опыт и знакомство с местной историей.
Им нравились обсуждения и дебаты, которые у нас были в классе. Когда я был помощником в Буффало, штат Нью-Йорк, два класса отправились на экскурсию: один в местный форт времен войны между французами и индейцами, а другой в художественный музей на территории кампуса на выставку, посвященную Подземной железной дороге. Студенты оценили практический опыт и знакомство с местной историей.
Несколько учеников написали о своих дружеских отношениях во время занятий. «Я думаю, что самое запоминающееся время, которое я провел на этом курсе, — это знакомство со всеми», — написал один из студентов. Другой предположил, что класс запомнился «по социальным причинам, людям, которых я встретил в классе. Это был, безусловно, один из самых общительных классов, в которых я был со времен общественного колледжа». У одного студента был несколько иной социальный приоритет. Что ему больше всего запомнилось? «Три девушки в четвертом ряду. Хорошие глазки». Ну, по крайней мере, у него была причина прийти на урок!
Я бы предпочел, чтобы они улучшили свои навыки письма, но если отчасти причина посещения колледжа состоит в том, чтобы получить «колледжский опыт», то, я полагаю, миссия выполнена.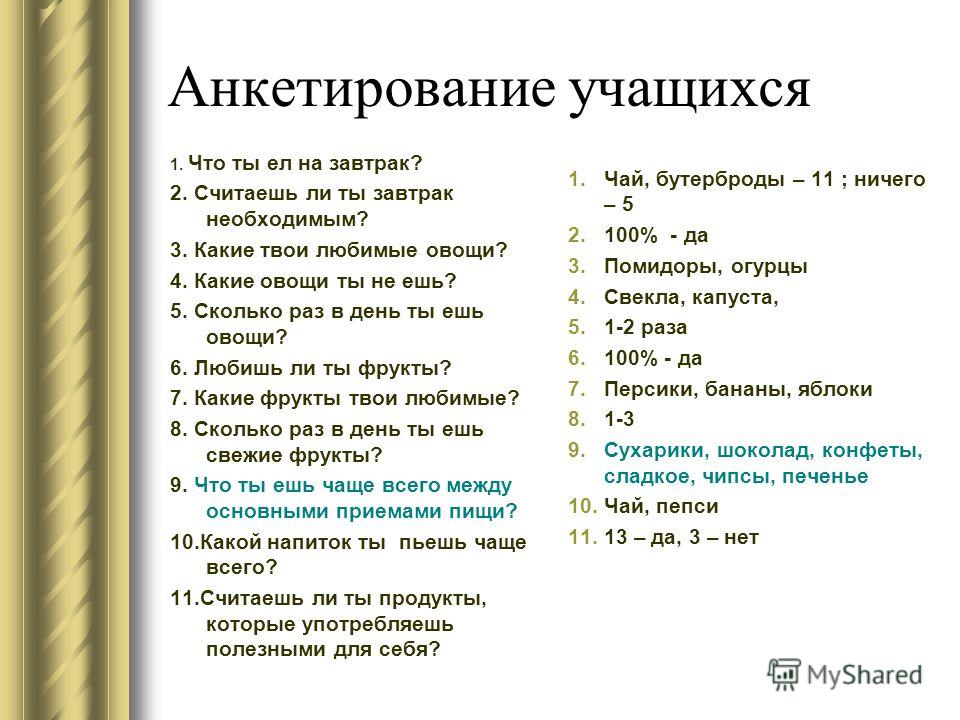
В общем, я убрал три вещи из своего эксперимента с опросом. Во-первых, визуальные эффекты работают. Как отмечают теоретики образования, некоторые люди учатся визуально и нуждаются в каком-то образе, чтобы информация закрепилась в их сознании. Но наглядные материалы делают больше, чем просто помогают учащимся сохранить информацию для промежуточного семестра. Некоторые документальные фильмы сегодня настолько высокого качества, как с точки зрения производства, так и с точки зрения научности, что они также передают важные концепции. Даже популярные фильмы и телепередачи, качество которых может быть сомнительным, жизненно важны для того, чтобы помочь учащимся понять, как критически относиться к той информации, которую они получают каждый день.
Во-вторых, разнообразие делает впечатления незабываемыми. Хотя я был польщен их похвалой, меня поразило, как часто студенты называли то, чего я не делал: обсуждения, экскурсии, визуальные эффекты, их отношения друг с другом. Многие занятия структурированы с профессором в центре внимания.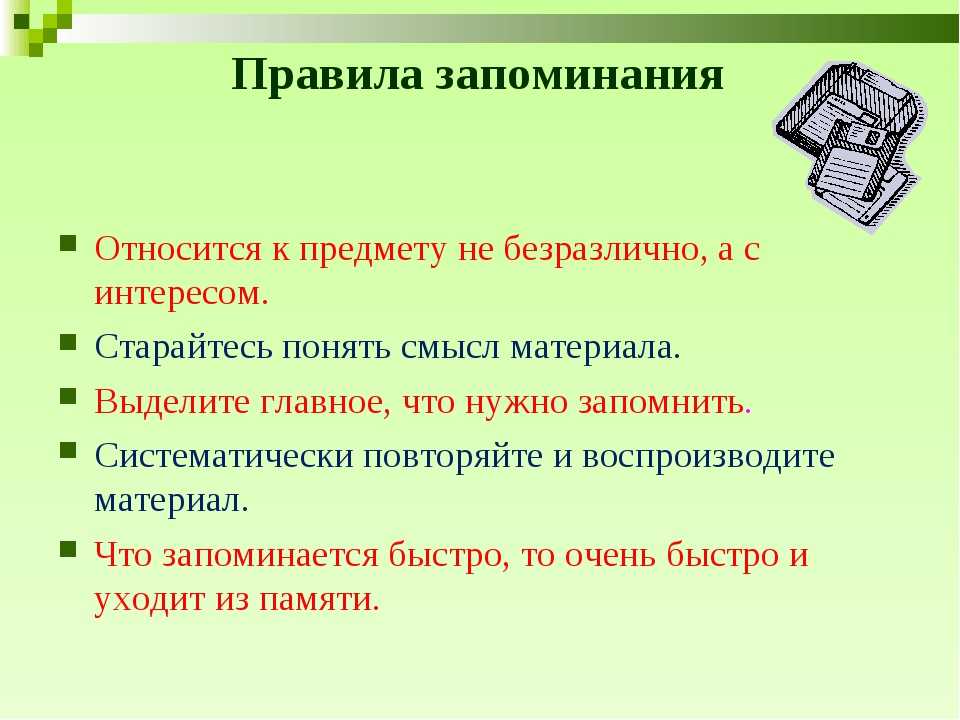 Выйти из центра внимания может быть хорошей вещью.
Выйти из центра внимания может быть хорошей вещью.
В-третьих, студенты хотят учиться. Не все из них, конечно, и особенно не в опросах, где интерес студентов низок, а отстраненность высока. Легко впасть в уныние, глядя на пустые взгляды и слыша стук пальцев, быстро набирающих текстовые сообщения. В то же время есть заинтересованные умы — даже в крупных опросах, проводимых в огромных лекционных залах. Если вы чувствуете себя измученным, сосредоточьтесь на этих учениках.
Настоящая проверка того, что ученики помнят, будет позже. Приобрели ли они навыки, которые помогут им в карьере? Смогут ли они обогатить свою жизнь, узнав о прошлом? Через тридцать лет, когда эти 19-летние ребята из Western Civ. посещают выпускные вечера своих детей, надеюсь, они смогут сказать «да». И если они смогут вспомнить какое-то видео, какую-нибудь книгу, какое-то обсуждение — и вспомнить, почему это имело значение, — тогда я буду очень счастлив.
Помнят ли ученики, чему они учились в школе?
Вопрос: Какая-то часть меня чувствует себя забавно просить студентов запоминать знания, потому что я знаю, что они многое забудут.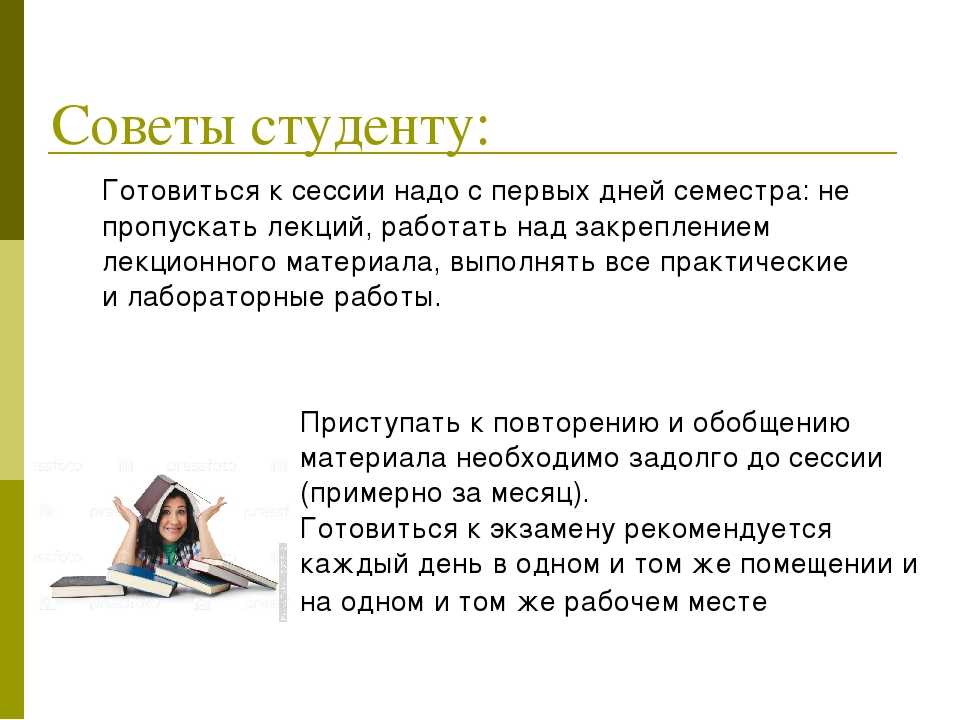 (В конце концов, я знаю, что я забыл многое из того, что выучил в средней школе.) Что говорят исследования о запоминании вещей для школы, которые вы просто забудете позже?
(В конце концов, я знаю, что я забыл многое из того, что выучил в средней школе.) Что говорят исследования о запоминании вещей для школы, которые вы просто забудете позже?
Ответ: Конечно, со временем мы что-то забываем, и нет оснований ожидать, что то, чему учатся в школе, должно быть исключением. Но мужайтесь: мы не все забываем, и при некоторых условиях помним почти все. У исследователей есть некоторое понимание того, почему мы склонны переоценивать то, что забыли. И самое главное, есть доказательства того, что память о том, чему мы научились в школе, имеет значение и действительно делает нас умнее.
* * *
«Образование — это то, что остается после того, как человек забыл то, что выучил в школе».
Эту цитату по-разному приписывают Альберту Эйнштейну, Ральфу Уолдо Эмерсону, президенту Гарварда Джеймсу Брайанту Конанту, психологу Б. Ф. Скиннеру и многим другим. (На самом деле ее происхождение неясно.) 1 Цитата обычно вызывается в одном из двух контекстов.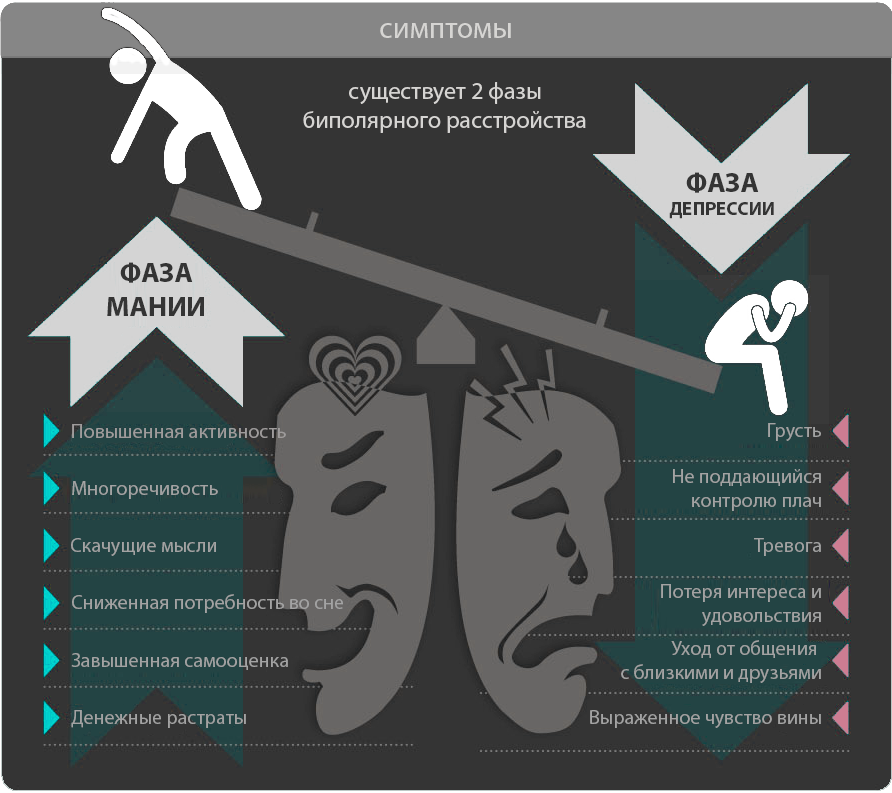 Либо автор хочет сказать, что в школах не учат тому, что действительно важно в жизни, либо, наоборот, что школы учат, хотя мы забываем большую часть деталей, которые нас просят выучить.
Либо автор хочет сказать, что в школах не учат тому, что действительно важно в жизни, либо, наоборот, что школы учат, хотя мы забываем большую часть деталей, которые нас просят выучить.
Утверждение о том, что выученное в школе забывается, редко подвергается сомнению. Возможно, это кажется само собой разумеющимся. Многие из нас сталкивались с тестовой бумагой десятилетней давности и были потрясены, увидев, что когда-то мы могли назвать самые важные статьи экспорта Бразилии или доказать, что два аспекта дополняют друг друга.
Тем не менее утверждение о том, что мы забываем большую часть полученного нами образования, неверно. Естественно, уроки, полученные в школе, забываются, как и любой другой опыт, но часть того, чему мы учимся, остается с нами. Давайте рассмотрим условия, которые способствуют сохранению или пропуску школьных уроков. Затем мы рассмотрим причины, по которым мы можем переоценивать забывание.
Что мы помним из школы?
Совокупный экзамен в конце года, используемый во многих классах, предполагает естественный эксперимент; что, если бы студенты сдавали тот же экзамен во второй раз, скажем, через год? Многие эксперименты опирались на эту базовую структуру, при этом второй экзамен состоял из вопросов, отличных от первого, но проверял те же концепции.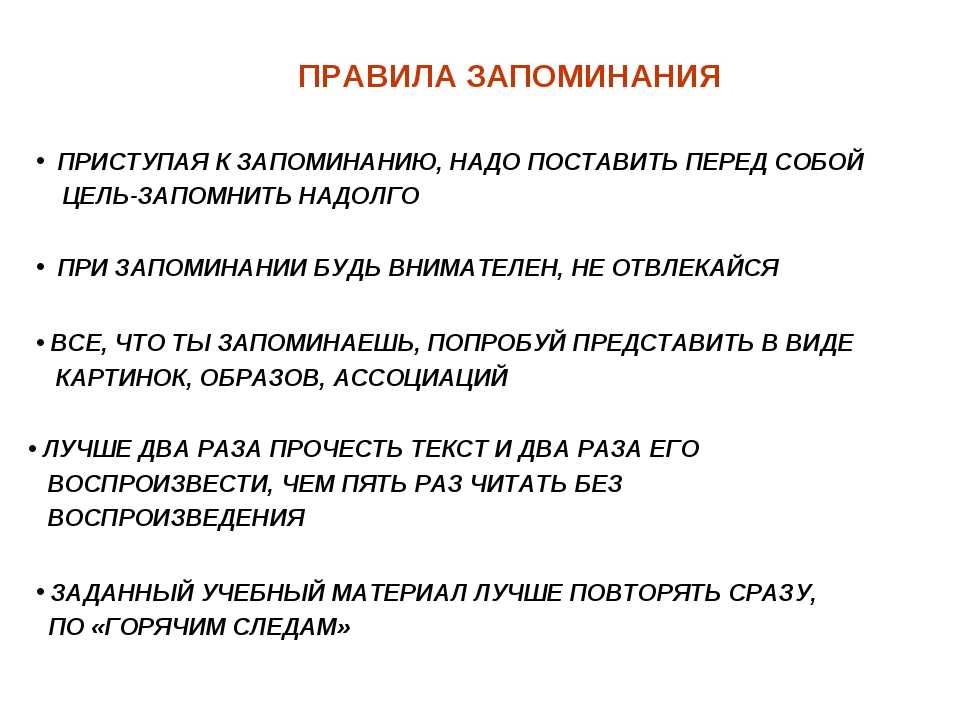 Результат? Забывания меньше, чем вы думаете.
Результат? Забывания меньше, чем вы думаете.
Потери в обучении обычно выражаются в процентах от первоначальной успеваемости; например, учащиеся, набравшие в среднем 80 процентов правильных ответов на первом тесте и 40 процентов правильных ответов на втором тесте, показали бы 50-процентную потерю. Обзор от середины 1990s объединили существующие эксперименты по этому вопросу и сообщили, что в 22 экспериментах с использованием тестовых вопросов, которые требовали от учащихся вспомнить информацию (например, «Какие годы в истории США часто называют позолоченным веком?»), потери в обучении составили около 28 процентов. . Запоминание было еще лучше, когда вопросы требовали распознавания правильного ответа, как в тесте с несколькими вариантами ответов. Для таких тестов средняя потеря обучения в 52 экспериментах составила всего 16 процентов.
Эти результаты звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, и в каком-то смысле так оно и есть. Данные о средних уровнях удержания не отражают информацию об условиях, в которых люди пытались вспомнить. Например, количество времени, прошедшее между первым и вторым тестами, безусловно, будет иметь решающее значение — вы будете помнить больше истории, которую изучали в старшей школе, когда вам будет 20 лет, чем когда вам 40. Действительно, прошедшее время время имеет значение, и высокие показатели удержания, о которых сообщается в этом обзоре, объясняются (частично) большим количеством относительно коротких интервалов тестирования.
Например, количество времени, прошедшее между первым и вторым тестами, безусловно, будет иметь решающее значение — вы будете помнить больше истории, которую изучали в старшей школе, когда вам будет 20 лет, чем когда вам 40. Действительно, прошедшее время время имеет значение, и высокие показатели удержания, о которых сообщается в этом обзоре, объясняются (частично) большим количеством относительно коротких интервалов тестирования.
В другом исследовании был предложен систематический взгляд на последствия задержки тестирования. 2 Исследователи провели несколько типов тестов (включая вопросы с несколькими вариантами ответов и только с двумя возможными вариантами ответов, поэтому у участников был 50-процентный шанс ответить на вопросы правильно) взрослым, прошедшим курс когнитивной психологии в колледже в возрасте от трех до 125 лет. месяцев (почти на 10 с половиной лет) раньше. Распознавание понятий и важных имен было довольно хорошим при трехмесячной задержке — точность 80 процентов.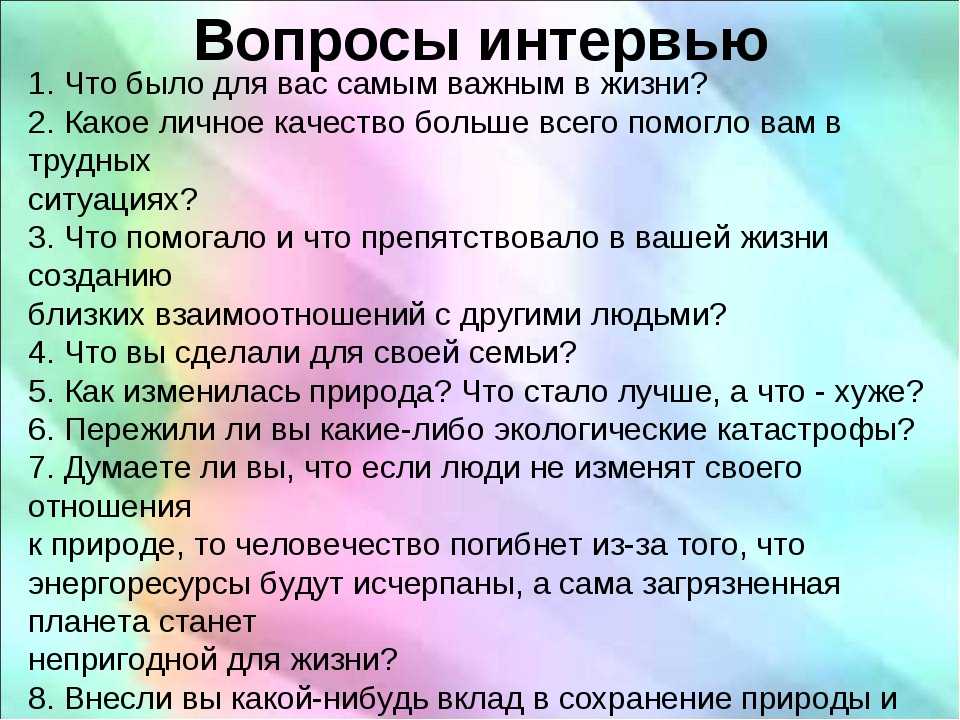 В течение трех лет точность снизилась до 65 процентов, но дальнейшее снижение было незначительным. Эта относительно быстрая потеря в течение нескольких лет типична, как и сохранение, по крайней мере, некоторой остаточной памяти материала курса.
В течение трех лет точность снизилась до 65 процентов, но дальнейшее снижение было незначительным. Эта относительно быстрая потеря в течение нескольких лет типична, как и сохранение, по крайней мере, некоторой остаточной памяти материала курса.
Мы также можем предположить, что чем больше учащийся узнал на курсе, тем больше он запомнит. То есть, если отличник знает испанский лучше, чем троечник, он все еще может знать испанский лучше 10 или 15 лет спустя. Это в высшей степени разумное предположение кажется верным; если вы знаете больше для начала, вы вспомните больше позже. 4
Еще один фактор, вероятно, влияет на запоминание в школе: что происходит между первым и вторым тестом. Хотя у 30-летнего человека будет на 10 лет меньше, чем у 20-летнего, он может вспомнить больше американской истории, если освежит свою память, читая популярные книги о ней.
Фактически, когда исследования показали быстрое забывание содержания курса, исследователи убедились, что люди , а не пересматривают содержание курса.
Как и следовало ожидать, память стала лучше. Например, в одном исследовании исследователи попросили старшеклассников Массачусетского технологического института сдать экзамен по механике, очень похожий на тот, который они сдавали на первом курсе. 5 (Это был итоговый экзамен по обязательному курсу механики.) Исследователи изучили баллы старшеклассников, разбив данные по специальностям. Они полагали, что у студентов, изучающих биологию или политологию, будет мало поводов применить свои знания в области механики за семь семестров с момента прохождения курса. Но студенты, специализирующиеся в области физики или машиностроения, скорее всего, использовали бы его.
Студенты-биологи потеряли примерно 55% способности решать задачи и примерно на 55% потеряли понимание концепций. Этот результат — резкое забывание в течение трех лет — сравним с другими результатами, которые мы рассмотрели. Но специалисты по физике потеряли 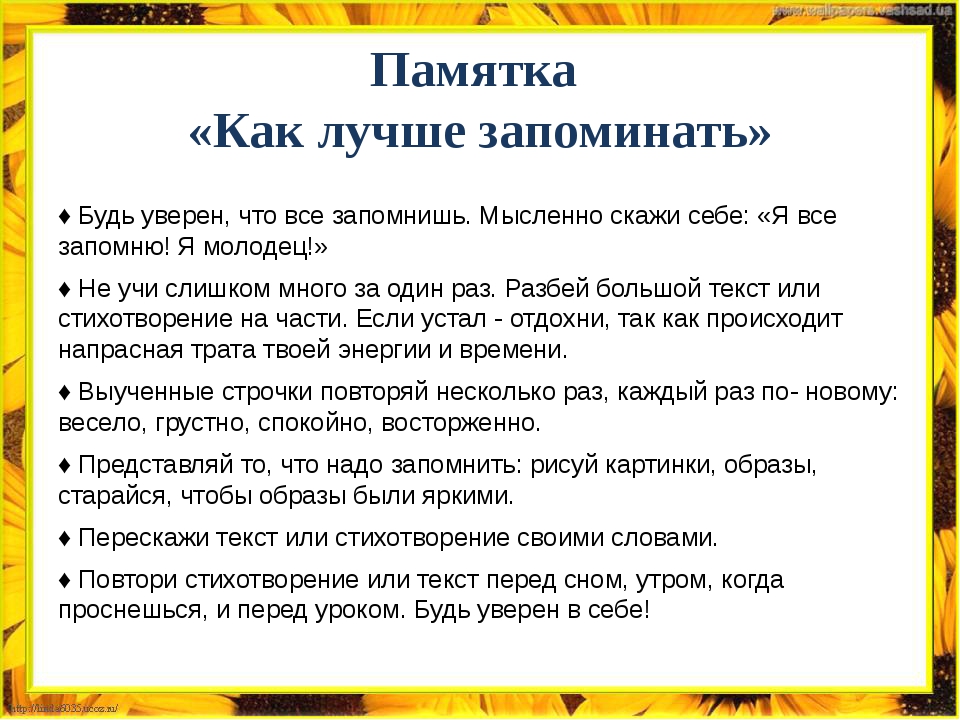 Таким образом, просмотр содержания курса (или тесно связанного с ним содержания) на будущих занятиях обеспечивал защиту от забвения.
Таким образом, просмотр содержания курса (или тесно связанного с ним содержания) на будущих занятиях обеспечивал защиту от забвения.
Другая работа показала, что этот фактор — просмотр контента позже — может иметь неожиданные последствия. Если что-то постоянно пересматривается в течение нескольких лет, есть большая вероятность, что оно не будет забыто, даже если оно больше никогда не будет использовано. Как будто продолжающееся изучение навсегда закрепляет содержание в памяти. К такому выводу пришел исследователь Гарри Бахрик в ходе изучения памяти по алгебре в средней школе. 6 Бахрик провел серию тестов по алгебре для более чем 1000 человек; некоторые только что закончили курс алгебры в средней школе, а некоторые прошли такой курс 74 года назад. Бахрик также подробно расспрашивал людей о других курсах, которые они посещали в средней школе и колледже, и о полученных ими оценках, по возможности проверяя эту информацию в школах. Он также спросил, в какой степени они полагаются на математику в своей работе, нравится ли им решать математические головоломки в свободное время и так далее.
Как и предыдущие исследователи, Бахрик обнаружил, что если вы изучали алгебру в старшей школе, то со временем забыли то, что выучили. Если вы проходили Алгебру II, вы позже помнили больше алгебры, потому что больше ее изучали (точно так же, как студенты-физики позже запоминали больше механики, чем студенты-биологи), но в конечном итоге вы все равно теряли большую часть того, что выучили. Но примечательно то, что студенты, прошедшие некоторые курсы помимо математического анализа, показали 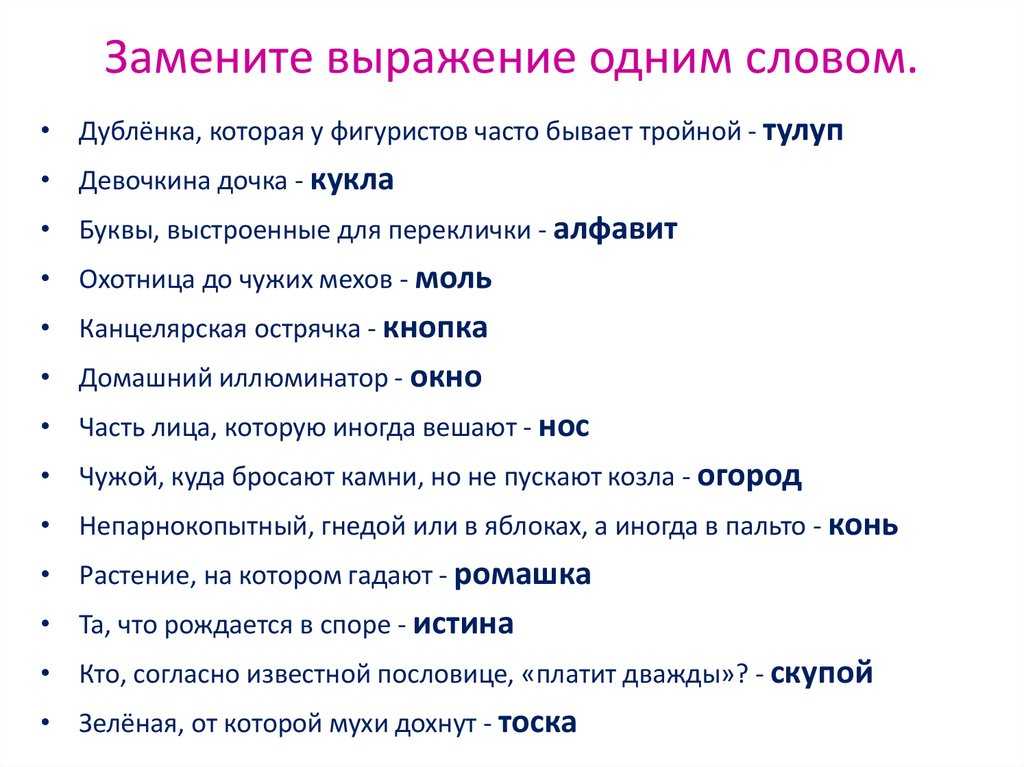 9
9
Так много ли мы забываем из того, чему научились в школе? Это вопрос типа стакан наполовину пуст или наполовину полон. Меня впечатляет то, что мы помним любой контент курса через пару десятилетий, не применяя его на практике. И имейте в виду, память будет лучше в той мере, в какой учащийся усвоил материал в первую очередь и у него были причины вернуться к нему в прошедшие годы. И при систематическом просмотре в течение нескольких лет память об этом материале будет почти неистребимой.
Если память о том, что мы изучаем в школе, на самом деле не так уж плоха, как я предположил, почему люди так считают? Есть две причины. Во-первых, мы недооцениваем то, что знаем, а во-вторых, даже когда мы признаем, что знаем что-то, мы можем не осознавать, что узнали это в школе.
Возможно, вы знаете больше, чем думаете
Мы можем недооценивать наши знания, потому что быстро приходим к заключению, что сбой памяти означает, что память ушла безвозвратно.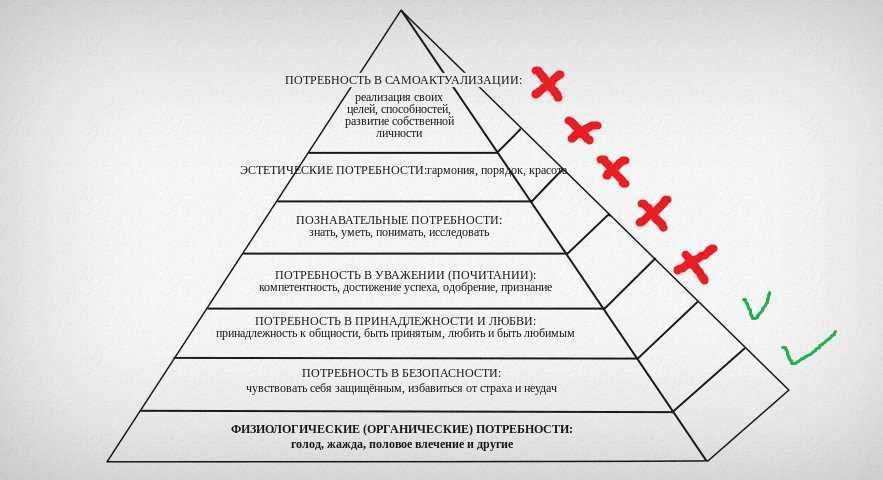 Предположим, вы спрашиваете друга средних лет о сюжете романа 9.0061 Отдельный мир
Предположим, вы спрашиваете друга средних лет о сюжете романа 9.0061 Отдельный мир
Вторая причина, по которой люди переоценивают забывание, заключается в том, что они не рассматривают самый мощный метод определения того, находится ли что-то в памяти: повторное обучение . Вот что я имею в виду. Предположим, вы начали изучать французский язык в 6 классе, а к 12 классу ваш французский стал достаточно хорош, чтобы вести повседневную беседу.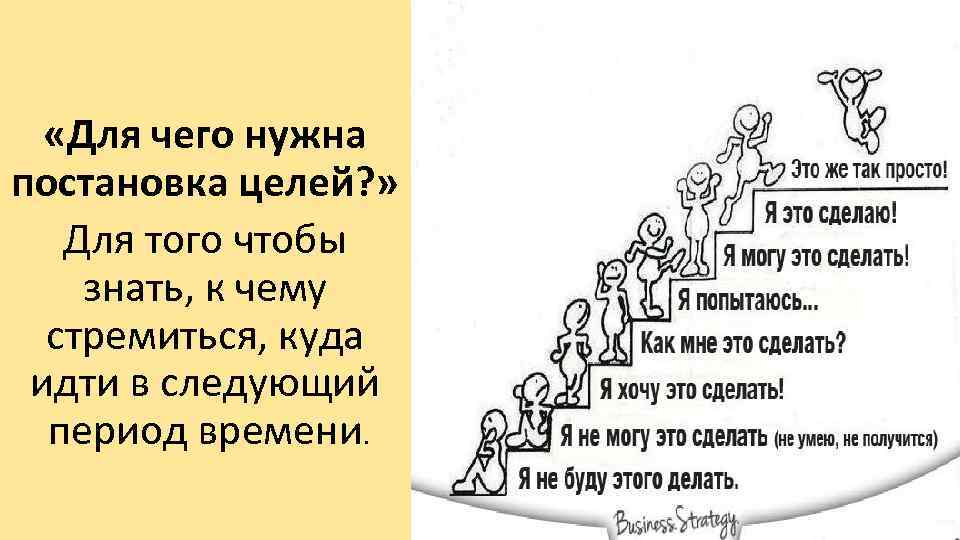
Кажется, его нет — в конце концов, вы не смогли вспомнить его для теста. Ну, предположим, вы снова начали изучать французский язык. Если 75 % ваших знаний утеряно, то для того, чтобы стать таким же профессионалом, каким вы были в конце средней школы, вам, по-видимому, придется изучить 75 % из семи лет, которые у вас ушли в первый раз. Но это не кажется правильным. Ваша интуиция подсказывает, что вы выучите французский быстрее, чем в первый раз. Ваша интуиция права. Это явление называется экономия на переобучении . Даже если вы не можете вспомнить или распознать что-то, что когда-то знали, это не значит, что эти знания полностью исчезли; остаток этого первоначального обучения очевиден благодаря более быстрому повторному обучению.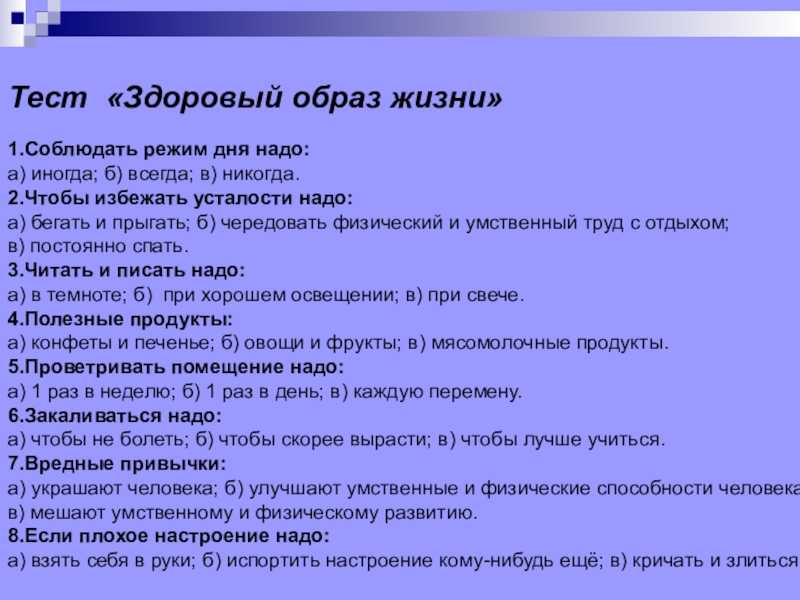
Мысленный эксперимент, который я только что предложил, действительно был проведен. Исследователи протестировали взрослых, которые отправились в Японию или Корею для миссионерской работы. Миссионеры провели за границей от 18 до 36 месяцев, а с момента их возвращения прошло от года до 45 лет. Исследователи опросили бывших миссионеров по длинному списку слов, которые они должны были выучить для своей работы за границей, отметив, какие из них они запомнили, а какие забыли.
Затем исследователи составили для каждого миссионера индивидуальный список из 16 слов, которые он не смог вспомнить. Затем исследователи обучали испытуемых запоминать этот персонализированный список из 16 забытых слов, а также 16 новых слов. (На самом деле это были псевдослова, созданные экспериментаторами, чтобы испытуемые не могли их знать.) По сравнению с новыми словами старые слова выучивались гораздо быстрее, хотя первый тест показал, что они были забыты. 12
Потеря источника памяти
Одна из причин, по которой мы думаем, что забываем большую часть того, чему научились в школе, заключается в том, что мы недооцениваем то, что на самом деле помним.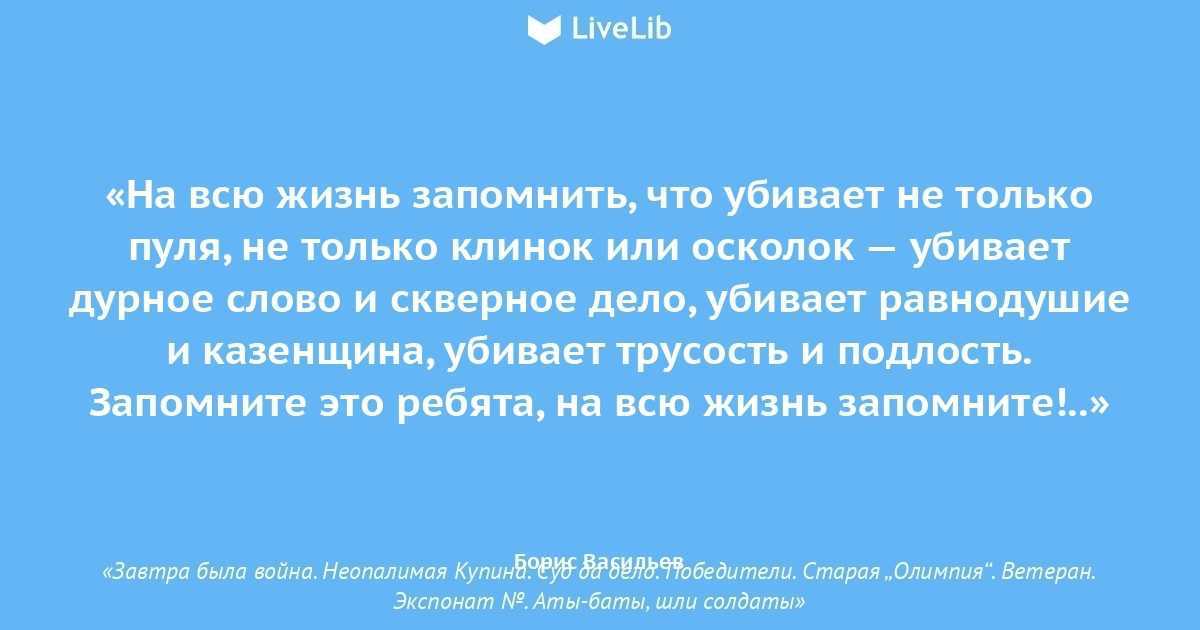 В других случаях мы знаем, что что-то помним, но не осознаем, что выучили это в школе. Знание того, где и когда вы что-то узнали, обычно называется контекстной информацией , и контекст обрабатывается другими процессами памяти, чем память для контента. 13 Таким образом вполне возможно сохранить контент без запоминания контекста.
В других случаях мы знаем, что что-то помним, но не осознаем, что выучили это в школе. Знание того, где и когда вы что-то узнали, обычно называется контекстной информацией , и контекст обрабатывается другими процессами памяти, чем память для контента. 13 Таким образом вполне возможно сохранить контент без запоминания контекста.
Например, если кто-то упоминает фильм, и вы думаете про себя, что слышали, что он ужасен, но не можете вспомнить, где вы это слышали, вы вспоминаете содержание, но теряете контекст. Контекстную информацию часто легче забыть, чем содержание, и она является источником различных иллюзий памяти. Например, людей не убедит убедительный аргумент, если он написан кем-то, кто не вызывает доверия (например, кто-то с явным финансовым интересом к теме). Но со временем отношение читателей в среднем меняется в сторону убедительного аргумента. Почему? Потому что читатели, скорее всего, вспомнят содержание аргумента, но забудут источник — кого-то, кто не заслуживает доверия.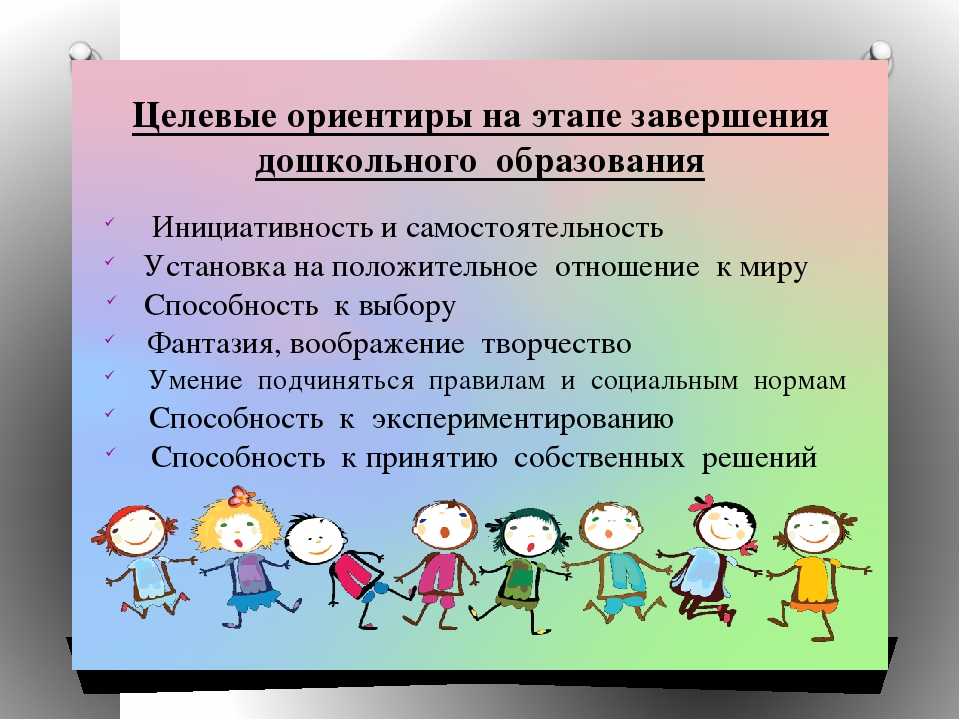 14 Если вам трудно вспомнить источник знаний, то легко сделать вывод, что вы мало что помните из школы.
14 Если вам трудно вспомнить источник знаний, то легко сделать вывод, что вы мало что помните из школы.
Эта проблема становится еще более серьезной, когда мы сталкиваемся с одной и той же информацией в разных контекстах. Например, если я спрошу вас, на каком континенте находится Египет, вы быстро ответите: «Африка». Но если я спрошу вас, где и когда вы впервые узнали об этом, вы, вероятно, не поймете. Если бы вы были второклассником, который узнал об этом накануне, вы могли бы с готовностью сказать мне: «Я читал это» или «мой учитель сказал мне». Но, будучи взрослым, вы сталкивались с этим десятки или сотни раз в самых разных контекстах. Факт остается, но контексты теряются.
Хорошим примером является исследование Грэма Натхолла. 15 После того, как 10-летние ученики провели урок в классе, Натхолл проверил их память на содержание уже через неделю или даже год спустя. Он также расспрашивал их об обстоятельствах, при которых они узнали об этом. Он обнаружил, что ученики довольно хорошо приписывали свои знания уроку после задержки всего в неделю, а также могли описать детали урока. Через год студенты все еще довольно хорошо отвечали на подробные вопросы об уроке, но их ответы, казалось, были основаны не на реальной памяти на детали, а скорее на памяти на общие принципы, к которым студенты добавляли выводы. А когда дело доходило до запоминания контекста — того, как они усвоили информацию, — их вспоминание часто было довольно плохим.
Через год студенты все еще довольно хорошо отвечали на подробные вопросы об уроке, но их ответы, казалось, были основаны не на реальной памяти на детали, а скорее на памяти на общие принципы, к которым студенты добавляли выводы. А когда дело доходило до запоминания контекста — того, как они усвоили информацию, — их вспоминание часто было довольно плохим.
Натхолл предлагает один из примеров потери студентом источника информации. На уроке, посвященном Антарктиде, ученики увидели картинку, на которой транспортный самолет садится на заснеженное поле при ярком солнечном свете. Фотография была сделана в 11 часов вечера антарктическим летом. Оратор мимоходом упомянул, что на самом деле она получила солнечный ожог ночью. Восемь месяцев спустя, когда одного студента попросили выбрать из списка наиболее серьезную проблему, с которой сталкиваются люди, работающие в Антарктиде летом, «серьезный солнечный ожог от солнечного света, отраженного от снега». На вопрос, почему она считает, что это серьезная проблема, ученица ответила: «Я где-то это слышала» и описала, как летом солнце светит 24 часа в сутки. На конкретный вопрос, упоминался ли солнечный ожог во время школьного урока, студент ответил: «Я не могу этого вспомнить».
На конкретный вопрос, упоминался ли солнечный ожог во время школьного урока, студент ответил: «Я не могу этого вспомнить».
Естественно, по содержанию часто можно догадаться, что мы чему-то научились в школе. Я мог бы подумать про себя: «Как иначе я мог бы узнать формулу для нахождения объема сферы? Это не то, что я бы прочитал о себе». Но если мы приписываем это только тогда, когда что-то звучит особенно по-школьному, мы можем ввести себя в заблуждение.
Некоторые знания, полученные в школе, может быть особенно трудно распознать как таковые, поскольку они очень обширны. Например, рассмотрите возможность поиска и извлечения информации из двумерной таблицы. С помощью таблицы умножения (и других) учащийся узнает, как использовать строки и столбцы для поиска записи, и что не имеет значения, находит ли он сначала строку или столбец. Спустя годы учащийся может не осознавать, что это знание позволяет ей пользоваться расписанием автобусов. Другой учащийся может научиться технике выделения переменных для определения причинно-следственных связей в науке, но не осознать, что он использует стратегию, изученную в школе, когда пытается определить, что вызывает у него аллергическую реакцию на новый рецепт соуса для барбекю.
До сих пор мы видели, что люди, вероятно, помнят больше из своих школьных дней, чем они думают. Все это очень мило, скажете вы, но имеют ли эти воспоминания последствия? Может быть, вы делаете помните дату битвы при Гастингсе. Ну и что?
Школа и ум
Ответ на вопрос «ну и что?» заключается в том, что посещение школы делает вас умнее, и отчасти — возможно, в большинстве — причина в том, что вы помните то, что выучили в школе.
Доказать, что школа делает вас умнее, не так просто, как может показаться.* Исследователи начали с простого предсказания, что дальнейшее обучение в школе должно быть связано с более высокими показателями IQ. Это правда, и эффект довольно сильный. В одном метаанализе корреляция количества лет обучения и IQ составила 0,46. 16 (Корреляция показывает, связаны ли две меры. Например, люди, получившие высокие оценки в средней школе, как правило, получают высокие оценки в колледже. Эта корреляция составляет около 0,40. ) Но, конечно, эту простую корреляцию трудно интерпретировать. Может быть, дело не в том, что учеба делает вас умнее, а в том, что, будучи умнее, у вас больше шансов остаться в школе. Или, может быть, виноват третий фактор, такой как богатство семьи. Состоятельные люди могут иметь как лучший доступ к школьному образованию, так и доступ к лучшему образованию, а также к жизненному опыту, который способствует повышению IQ. Таким образом, связь наблюдается, потому что богатство увеличивает как интеллект, так и время в школе.
) Но, конечно, эту простую корреляцию трудно интерпретировать. Может быть, дело не в том, что учеба делает вас умнее, а в том, что, будучи умнее, у вас больше шансов остаться в школе. Или, может быть, виноват третий фактор, такой как богатство семьи. Состоятельные люди могут иметь как лучший доступ к школьному образованию, так и доступ к лучшему образованию, а также к жизненному опыту, который способствует повышению IQ. Таким образом, связь наблюдается, потому что богатство увеличивает как интеллект, так и время в школе.
Лучший способ ответить на этот вопрос заключается в статистическом исключении этих других факторов. Несколько исследователей применили этот подход, измеряя IQ большой группы детей в раннем возрасте, скажем, 10 лет, и собирая информацию о семье каждого ребенка, такую как доход и образование родителей. Затем исследователи снова измеряют интеллект несколько лет спустя, часто в возрасте около 19 лет. Итак, мы можем увидеть, коррелируют ли «годы обучения» с показателем IQ, полученным в 19 лет. . Мы знаем, что они будут сильно связаны, но теперь мы можем обратиться к альтернативным интерпретациям, которые нас беспокоили. Мы можем проверить, связано ли обучение в школе с IQ 19-летнего возраста 90 061 после того, как 90 062 мы статистически удалили влияние IQ 10-летнего возраста, а также влияние характеристик семьи. Первый касается толкования, что «умные люди остаются в школе», а второй касается аргумента о том, что «семья, а не обучение, имеет значение». Результаты этих исследований 17 показывают, что обучение в школе действительно делает учащихся умнее.
. Мы знаем, что они будут сильно связаны, но теперь мы можем обратиться к альтернативным интерпретациям, которые нас беспокоили. Мы можем проверить, связано ли обучение в школе с IQ 19-летнего возраста 90 061 после того, как 90 062 мы статистически удалили влияние IQ 10-летнего возраста, а также влияние характеристик семьи. Первый касается толкования, что «умные люди остаются в школе», а второй касается аргумента о том, что «семья, а не обучение, имеет значение». Результаты этих исследований 17 показывают, что обучение в школе действительно делает учащихся умнее.
Третий метод исследования, пожалуй, самый мощный. Иногда политики изменяют минимальное количество лет, которое учащиеся должны посещать школу. Таким образом, независимо от семейных факторов и выбора учащихся, большое количество учащихся ходит в школу дольше, чем обычно учащиеся в их юрисдикции. Если обучение повышает IQ, † , мы должны ожидать повышения IQ, которое совпадает с увеличением количества обязательных лет обучения. В 19В 60-х годах минимальное количество лет образования, необходимое в Норвегии, увеличилось с семи до девяти. Средний год обучения подскочил с 10,5 до 10,8, а средний IQ увеличился на 1,5 балла. 18
В 19В 60-х годах минимальное количество лет образования, необходимое в Норвегии, увеличилось с семи до девяти. Средний год обучения подскочил с 10,5 до 10,8, а средний IQ увеличился на 1,5 балла. 18
Итак, обучение в школе делает вас умнее, но есть ли доказательства того, что то, что вы помните из школы, делает вас умнее? Может быть, посещение школы тренирует ваш мозг, так сказать, чтобы вы становились умнее, но специфика этого упражнения не имеет значения. У нас есть некоторые предварительные (но, вероятно, не окончательные) исследования, предполагающие, что особенности до имеет значение.
На IQ влияют два фактора: широта и глубина того, что у вас есть в памяти, и скорость, с которой вы можете обрабатывать то, что знаете. Существуют способы измерения умственных способностей, которые в основном не зависят от того, что вы знаете. Одной из них является скорость обработки данных. Например, IQ сильно коррелирует со временем, затрачиваемым на проверку того, какая из двух строк, представленных на экране, длиннее. 19 Исследователи показали, что хотя количество лет обучения связано с IQ, оно не связано со скоростью обработки информации. Это открытие предполагает, что образование повышает IQ, увеличивая широту и глубину ваших знаний, что противоречит идее о том, что школа подобна умственным упражнениям и что содержание упражнений не имеет значения. 20 В другом исследовании оценивалось, влияет ли школьное обучение на IQ за счет повышения общих вычислительных способностей (например, способности мысленно манипулировать несколькими вещами одновременно) или за счет улучшения знаний в более узкой области, таких как чтение и математика. 21 Результаты этого исследования подтверждают второе: обучение в школе повышает IQ за счет расширения знаний учащихся по содержанию и навыков использования этих знаний.
19 Исследователи показали, что хотя количество лет обучения связано с IQ, оно не связано со скоростью обработки информации. Это открытие предполагает, что образование повышает IQ, увеличивая широту и глубину ваших знаний, что противоречит идее о том, что школа подобна умственным упражнениям и что содержание упражнений не имеет значения. 20 В другом исследовании оценивалось, влияет ли школьное обучение на IQ за счет повышения общих вычислительных способностей (например, способности мысленно манипулировать несколькими вещами одновременно) или за счет улучшения знаний в более узкой области, таких как чтение и математика. 21 Результаты этого исследования подтверждают второе: обучение в школе повышает IQ за счет расширения знаний учащихся по содержанию и навыков использования этих знаний.
* * *
Слишком часто учителя сталкиваются с выводами исследований, которые только усложняют их работу. Этот предмет – счастливое исключение. Исследования показывают, что мы помним гораздо больше содержательных знаний, чем думаем.
А как насчет цитаты, предложенной в начале этой статьи? Я считаю, что это имеет вещи в обратном порядке. Образование — это не то, что остается, когда мы забываем то, что выучили в школе. Наоборот, образование — это (по крайней мере частично) то, что мы помним из того, чему учились в школе. Учителя могут быть уверены, что память об этом обучении существенна.
Дэниел Т. Уиллингем — профессор когнитивной психологии в Университете Вирджинии. Он автор Когда можно доверять экспертам? Как отличить хорошую науку от плохой в образовании и Почему учащимся не нравится школа? Его последняя книга — « Воспитание детей, которые читают: что могут сделать родители и учителя». Его статьи об образовании можно найти на сайте www.danielwillingham.com. Читатели могут размещать вопросы в «Спросите когнитивного ученого», отправив электронное письмо по адресу [email protected]. Будущие колонки постараются ответить на вопросы читателей.
*Здесь я использую стандартные тесты интеллекта как меру «умнее». Что бы вы о них ни думали, давно известно, что показатели IQ предсказывают производительность труда и индивидуальный экономический успех. См. Линда С. Готтфредсон, «Почему г Вопросы: сложность повседневной жизни», Intelligence 24 (1997): 79–132; и Йоав Ганзак, «Динамический анализ влияния интеллекта и социально-экономического фона на успех на рынке труда», Intelligence 39 (2011): 120–129. (назад к статье)
Что бы вы о них ни думали, давно известно, что показатели IQ предсказывают производительность труда и индивидуальный экономический успех. См. Линда С. Готтфредсон, «Почему г Вопросы: сложность повседневной жизни», Intelligence 24 (1997): 79–132; и Йоав Ганзак, «Динамический анализ влияния интеллекта и социально-экономического фона на успех на рынке труда», Intelligence 39 (2011): 120–129. (назад к статье)
† Дополнительную информацию об обучении и показателях интеллекта см. в весеннем выпуске American Educator «Обучение делает вас умнее». (вернуться к статье)
Endnotes
1. Гарсон О’Тул, «Образование — это то, что остается после того, как вы забыли все, что выучили в школе», Quote Investigator (блог), 7 сентября 2014 г., www.quoteinvestigator.com/2014/09/ 07/забыл.
2. Мартин А. Конвей, Джиллиан Коэн и Никола Стэнхоуп, «Об очень долговременном сохранении знаний, полученных посредством формального образования: двенадцать лет когнитивной психологии», Journal of Experimental Psychology: General 120 (1991) : 395–409.
3. См., например, Harry P. Bahrick and Lynda K. Hall, «Lifetime Maintenance of High School Mathematics Content», Journal of Experimental Psychology: General 120 (1991): 20–33; и Джон А. Эллис, Джордж Б. Семб и Брайан Коул, «Очень долговременная память для информации, преподаваемой в школе», Contemporary Educational Psychology 23 (1998): 419–433.
4. Гарри П. Бахрик, «Содержимое семантической памяти в Permastore: пятьдесят лет памяти для испанского, изучаемого в школе», Journal of Experimental Psychology: General 113 (1984): 1–29; Конвей, Коэн и Стэнхоуп, «Об очень долгосрочном удержании»; и Эллис, Семб и Коул, «Очень долговременная память».
5. Эндрю Поул, Аналия Баррантес, Дэвид Э. Причард и Рудольф Митчелл, «Что помнят старшеклассники из первокурсников по физике?», Physical Review Special Topics—Physics Education Research 8 (2012): 020118.
6 Бахрик и Холл, «Пожизненное техническое обслуживание».
7. Бахрик, «Содержимое семантической памяти».
Бахрик, «Содержимое семантической памяти».
8. Гарри П. Бахрик, Филлис О. Бахрик и Рой П. Виттлингер, «Пятьдесят лет памяти для имен и лиц: кросс-секционный подход», Журнал экспериментальной психологии: Общие 104 (1975): 54–75.
9. Хенк Г. Шмидт, Валери Х. Пик, Фред Паас и Джерард Дж. П. ван Брекелен, «Запоминание названий улиц в районе детства: исследование очень долговременного удержания», Memory 8 (2000) : 37–49.
10. Дэвид Г. Пейн, «Гипермнезия и воспоминания в припоминании: исторический и эмпирический обзор», стр. 9.0061 Психологический бюллетень 101 (1987): 5–27.
11. Томас О. Нельсон, «Обнаружение небольших объемов информации в памяти: экономия для нераспознанных элементов», Журнал экспериментальной психологии: человеческое обучение и память 4 (1978): 453–468.
12. Линн Хансен, Юкако Умеда и Мелани МакКинни, «Экономия на повторном изучении словарного запаса второго языка: влияние времени и мастерства», Language Learning 52 (2002): 653–678; Джеффри С. Бауэрс, Свен Л. Мэттис и Сюзанна Х. Гейдж, «Сохранившееся неявное знание забытого детского языка», стр. Психологическая наука 20 (2009): 1064–1069; Кес де Бот и Саския Стессель, «В поисках вчерашних слов: возрождение давно забытого языка», Applied Linguistics 21 (2000): 333–353; и Ниенке ван дер Хувен и Кес де Бот, «Повторное обучение пожилых людей: влияние возраста на размер сбережений», Language Learning 62 (2012): 42–67.
Бауэрс, Свен Л. Мэттис и Сюзанна Х. Гейдж, «Сохранившееся неявное знание забытого детского языка», стр. Психологическая наука 20 (2009): 1064–1069; Кес де Бот и Саския Стессель, «В поисках вчерашних слов: возрождение давно забытого языка», Applied Linguistics 21 (2000): 333–353; и Ниенке ван дер Хувен и Кес де Бот, «Повторное обучение пожилых людей: влияние возраста на размер сбережений», Language Learning 62 (2012): 42–67.
13. Карен Дж. Митчелл и Марсия К. Джонсон, «Мониторинг источника 15 лет спустя: что мы узнали из фМРТ о нейронных механизмах памяти источника?», Психологический бюллетень 135 (2009): 638–677.
14. Г. Таркан Кумкале и Долорес Альбаррасин, «Эффект спящего в убеждении: метааналитический обзор», Психологический бюллетень 130 (2004): 143–172.
15. Грэм Натал, «Роль памяти в приобретении и сохранении знаний в научных и социальных единицах», Познание и обучение 18 (2000): 83–139.
16. Тармо Стренце, «Интеллект и социально-экономический успех: метааналитический обзор лонгитюдных исследований», Разведка 35 (2007): 401–426.
Тармо Стренце, «Интеллект и социально-экономический успех: метааналитический обзор лонгитюдных исследований», Разведка 35 (2007): 401–426.
17. Например, Элизабет У. Кассио и Итан Г. Льюис, «Обучение и квалификационный тест вооруженных сил: данные законов о поступлении в школу», Journal of Human Resources 41 (2006): 294–318; и Торберг Фальч и София Сандгрен Массих, «Влияние образования на когнитивные способности», Economic Inquiry 49 (2011): 838–856.
18. Кристиан Н. Бринч и Тэрин Энн Гэллоуэй, «Обучение в подростковом возрасте повышает показатели IQ», стр. 9.0061 Труды Национальной академии наук 109 (2012): 425–430.
19. Дженнифер Л. Грудник и Джон Х. Кранцлер, «Метаанализ взаимосвязи между интеллектом и временем проверки», Intelligence 29 (2001): 523–535.
20. Стюарт Дж. Ричи, Тимоти С. Бейтс, Джефф Дер, Джон М. Старр и Ян Дж. Дири, «Образование связано с более высокими показателями IQ в дальнейшей жизни, но не с более высокой скоростью когнитивной обработки», , психология.

 Так хотелось хорошо сдать экзамены… Это было смешно.
Так хотелось хорошо сдать экзамены… Это было смешно. Мы думали, что идём к семи часам, а оказалось, что пришли в пять утра. Самое смешное, так это то, что неправильно перевела часы половина нашей группы.
Мы думали, что идём к семи часам, а оказалось, что пришли в пять утра. Самое смешное, так это то, что неправильно перевела часы половина нашей группы.